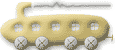
2012-03-27 : griol : Анорексия
| "Анорексия" Евгений Валецкий
Нервная анорексия (anorexia nervosa) — полный отказ от еды или резкое ограничение приёма пищи в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса под влиянием сверхценных или бредовых идей. Анорексию принято считать женским заболеванием, которое проявляется в подростковом возрасте. Около 90 % больных анорексией — девушки. *** Никогда не верь, деточка, писателю. Не верь. Не верь ты, девочка. Он видит, как зареванная оттого, что любимый нанес тебе тяжкую рану в живот виртуальным ножом измены, ревности или простого человеческого безразличия, ты накрываешься теплым пледом, забиваешься в уголок дивана и , с крошечной надеждой обрести душевный покой, раскрываешь его книгу. Ты приготовила бокал, в нем виски с яблочным соком. А в груди трепещет маленькая надежда забыться, найти ответ на вечный вопрос и обрести хоть ненадолго успокоение от вымысла. Не верь и ты, мальчик. Ты поставил книгу за сковородкой с яичницей, а рядом целая батарея пустых пивных банок. И ты будешь искать объяснения своему чувству, которое разрывает в куски так, что хочется рыдать. Но настоящие мальчики не плачут, это тебе внушили еще родители целых тридцать пять или даже пятьдесят лет назад. Ты строго следуешь правилу, хотя отчетливо понимаешь, что не для тебя оно, это правило, не для тебя. Будь ты просто человеком, а не настоящим мальчиком, зарылся бы носом в подушку и сдавленно кричал. Одновременно думая о том, что, не дай бог, услышат алкоголики-соседи, и потом пойдут сплетни по всему двору. О том, как беснуешься ты вечерами, они всегда знали, что с виду мирный сосед – банальный сумасшедший. Не верь ему, детский взрослый ребенок. Не верь. Он расскажет тебе сказочку. О том, как любили друг друга он и она, как шли в ежедневный бой против всех человеческих подлостей и защищали друг друга, а потом умерли в один день и всю оставшуюся им вечность бродили по райскому саду. Срывая с ветвей яблоки забвения. Он расскажет тебе сказочку. О том, как она, славная и беспомощная, нашла в его лице опору, как вырастила в душе священные деревья смелости и честности, как стала мифической птицей Феникс, умерла и возродилась, благодаря ему и во имя его. Он поведет тебя в лес, густой и мрачный, где пробивается оранжевый луч сквозь мохнатые верхушки елей, где под каждым кустом затаился клубок змей, и ты поймешь, что бываешь в этом лесу каждый раз, когда приезжаешь в свой офис. И выжить там ты сможешь только тогда, когда за плечами будут мудрость и сила, находчивость и терпение. И виртуальное копье тоже всегда должно быть с тобой. А если ты не любишь лесной пейзаж, пожалуйста, он отведет тебя к океану. Наклонись, - вода прозрачна, там стаи ярких рыб. И знай, что каждая из них может укусить, отравить, ужалить, если ты бросишься в воду. Не теряй разума, детеныш, этот океан всегда вокруг тебя. Главное - об этом помнить. Он не знает, солнышко, любишь ты пустыню или джунгли, стеклянное пространство аэропортов или пыльный воздух бизнес-центров. Но всегда найдет куда тебя отвести, если захочешь быть обманутым. Какая разница, что именно принесет успокоение, и главное – не метод, а результат. Но если не хочешь быть обманутым последним человеком, который тебя еще в этой жизни не обманул, - не верь писателю. Посмотри, он сидит в захламленной кухне, взъерошенный, в теплых носках летом, в синей футболке с коричневыми пятнами на животе. Перед ним ноутбук, рядом кусок засохшей пиццы и выдохшееся пиво. Взъерошенный и бледный, он сжимает пальцами виски и думает о том, как бы похитрее тебя надуть. Пограмотней, покрасивее. Он видит тебя, человеческий детеныш, так, будто ты стоишь перед ним и просишь тебя обмануть. Он сделает это. Он пролезет в правое ухо верблюда, и вылезет через левое, моложе на пятнадцать лет. Он станет мужчиной с длинными волосами и тяжелыми буграми мышц на руках. Он сделает все, чтобы ты поверила, девочка, что только он – тот человек, с которым тебе суждено быть счастливой. Он выпьет отвар мандрагоры, не зная в точности, что это за отрава, и что с ним будет потом. Но в чем он твердо уверен, так это в том, что преобразится. Отпустит мысли. И сможет обмануть любого. Неважно, что сидит он сейчас перед пыльным монитором, в растерянности почесывая голову и вытаращив красные от усталости глаза. Но это лучший вариант, маленький читатель, это еще лучший. Он ведь может оказаться безнадежным депрессивным алкоголиком, и самой большой его проблемой будет нереализованное за всю жизнь сексуальное желание. Может случиться так, что всю сознательную жизнь он вынужден был спать с женщиной, и хорошо, если женщин было много, но ведь может быть так, что женщина была одна. Представь, милый, какое это глубокое несчастье – всю жизнь знать только одну женщину! Знать каждый рыжеватый волос на ее лобке, каждую пухлую складку под мышкой, точно представлять даже на большом расстоянии, как именно в конкретный день менструального цикла она пахнет… Боже мой, боже, какая дикая тоска, - быть рожденным летать, - но всю свою жизнь знать только одну женщину… Особенно, если ему всегда нравились юноши. Юноши, с их загорелой кожей, с упругими завитками на затылке, с твердыми как дерево, ягодицами, с жесткой щетинкой над верхней губой. Ах, эти губы. Он мог представлять себе все пятьдесят сознательных лет, как эти губы обхватывают его член, как он откидывается на спинку стула и закрывает глаза. Он мог физически ощущать сильные мужские руки на внутренней стороне бедер. Неужели ты думаешь, человеческий ребенок, что можно быть счастливым, обнимая всю жизнь одну и ту же толстую женщину под потным одеялом? И сейчас он сидит в затрапезной кухне, в серо-коричневых полосатых трусах, а перед ним пепельница, полная так же, как полна его жизнь разочарованиями. Он расскажет тебе сказочку и ты поверишь, что именно он совершил все земные подвиги, ты позавидуешь ему. Так, как он сейчас завидует тебе. Потому что вряд ли в твоей жизни была только одна эта толстая потная женщина с рыжим волосатым лобком. Не верь писателю, маленький доверчивый человек. Он знает, что ты приходишь с открытой душой, что ты в поиске ответов на вечные вопросы готов читать его до изнеможения, особенно, если он владеет мастерством слова . Он знает, что сможет вынуть из тебя душу и кишки. Ему нужно, чтобы ты купил его книгу, - тогда он сможет купить полкило мяса своей собаке, - единственному существу, которое искренне его любит. Господи, он должен молчать, он должен выстроить образ фантастического героя, которому доступна вся человеческая мудрость. Он не знает, что именно подвигло его сейчас на эту неприглядную откровенность, может быть, совесть, а может, внезапное осознание того, что скоро он умрет, а никогда еще в этой жизни он не совершал благородных поступков. Возможно, такое признание, - это странная просьба Всевышнему об искуплении грехов, главным из которых была ложь. Ложь каждый день, каждый час… Но все же… Милый друг по ту сторону книги! Не верь писателю. Никогда. Верь только, если очень хочется верить. И тогда, когда больше верить не во что. ЖАЛОБЫ Она насквозь лукава, не упорствуй: Притворство всё в ней - даже и притворство. Рамон Де Кампоамор - В девятом доме гороскопа у вас нет планет, - сказал астролог, - вам некуда ехать, вы останетесь там, где живете. Много лет назад город схватил пухлыми пальцами, цепкими, как лапки «черной вдовы», мягкими, как сонные руки толстого любовника, еврея из хорошей одесской семьи, за щиколотки. Схватил – и не отпускает. И не отпустит до конца моей незначительной жизни. Я никогда не пыталась вырваться из его объятий. Это мой крест, пудовая медаль «за пьянство». Я живу здесь, как в липкой паутине. Зная, что не вырвусь никогда. По крайней мере, не вырвусь целой. Он будет сопротивляться, как же – я его сладкая добыча. Живой я не уйду. Город – мой морской царь. Он обвивает мягкими щупальцами хлипкий мой, втянутый живот. Цепляется присосками к загорелой груди. Он огромный и липкий, влажный, полупрозрачный, как белая медуза, с едким запахом водорослей; теплый, умирающий на песке. Я должна любить своего морского царя, свой город, свою медузу. Я живу в городе и останусь в городе, и нет света, кроме моего города, распустившего подземные корни, несущие людям медуз, мокрых от желания жечь. В черные дни грусти, похожие на острые корабельные якоря, я вспоминаю слова астролога, как оправдание. Я вспоминаю их каждый день, я сумасшедшая, я вижу во сне мокрый умирающий город. Старушка под балконом рассматривает выброшенный мусор. Это мой мусор. Это мои большие белые пакеты с красной надписью «Сеть универсамов «Наталка». Старушка держит на сухой глянцевой ладони битую яичную скорлупу, сырые пакеты от творога, яркую упаковку вэб-камеры, исхлестанную штрих-кодом. Перебираю подсохшие скрученные воспоминания – что еще я выбрасывала за последние два дня? Подшивку пожелтевших газет с ржавыми клетками кроссвордов, тускло отпечатанный на принтере роман Акунина «Коронация», - это мое последнее развлечение, мне нравится стиль, нравится умница Фандорин - мечта девственниц, но я не покупаю модные книги. Я печатаю их за счет прижимистого босса в своем офисе, читаю и выбрасываю. Иногда выбрасываю, а потом вспоминаю отрывки, сожалея о выброшенном. Старуха под балконом медленно читает распечатку романа, складывает ее по порядку, лист к листу – я всегда привычно нумерую страницы черной гелевой ручкой, привычно забыв пронумеровать страницы в Word`е. А еще, и вечером и утром, я бросила в этот пакет сытые тампоны, пропитанные мертвой менструальной кровью. Красота смерти пахнет крепдешиновыми розами. Старушка откладывает измятого Фандорина в «нужные вещи», - а я сбегаю с балкона. Меня начинает тошнить. Через двадцать лет я сама буду перебирать мусор. А с балкона моей бывшей квартиры в самом центре Одессы, за мной будет наблюдать мое, уложенное плойкой, блестящее прошлое. Красивая и успешная дама, с исколотым ботоксом лицом. Я буду перебирать мусор этой насмешливой дамы, не чувствуя кислого запаха хлеба и мягкого касания узорчатой плесени. Забуду, что когда-то у меня были регулярные месячные, о том, как мечтала вырваться из паутины привычек и лететь к солнцу, не вынимая узкие ступни из синей воды океана. Забуду, как снились мне далекие перистые листья пальм, как слышала во сне шорох кокосовой копры, как следила за мелочью придонных рыбок на фоне сахарного океанского дна, - в этих снах я умела нырять с красно-черным аквалангом, чтобы отломить на память веточку спящего коралла. А по утрам, еще не сбросив остатки песочного сна, размышляла - можно ли порезать кораллами руки? Узнать не пришлось, потому что в моем море никогда не было кораллов. В нем были летучие обрывки полиэтилена, угловатые пакеты от сока и пахнущего жженкой местного вина, маленькие дохлые камбалы и плоские презервативы с осевшей пеной внутри. Еще есть сотни потных тел с красными волдырями от солнечных ожогов, галдящие дети, они втирают пятками песок в мои бесцветные глаза. И над головой гудение жилистого деда с коричневой прокопченной кожей: «Горя-я-ячая куру-рууу-за! Холодное пи-и-иво! Плом-би-ир!». Я не могу есть на пляже горячую кукурузу. Не могу пить горьковатое пиво или откусывать крохотные кусочки пломбира. Если нарушу запрет – еда бухнется камнем в живот и воскреснет в собственной пищевой жизни. Я знаю, как это произойдет - месиво из свернутого молока и желтых прожеванных зерен сыто перевернется в свинцовой трубе желудка. Всхлипнет, запенится, завздыхает. Живот потяжелеет, я напряжённо вслушаюсь в тихий шепот, исходящий из глубины тела, где еда стонет и пыхтит. Мне кажется, что в этот момент ее частицы сладко трахаются друг с другом, порождая новые съеденные кусочки, со свойственными им чувствами, эмоциями и желаниями. Они стремятся на свободу, и мне захочется вырвать. Мне потребуется туалет, чтобы, склонившись над унитазом, яростно выблевать в открытый фарфоровый колодец. Этим я занимаюсь последние двадцать лет своей жизни. Еда не уживается со мной. Она слишком свободолюбива. Я слишком нетерпима к ее желаниям. Я ем, чтобы жить. Чтобы избавиться от криков еды – я вырываю ее без сожаления и страха умереть от голода. Я настойчиво отказываюсь от приглашения поехать компанией на пикник. Я знаю, как оживают в животе замаринованный в кефире свиной шашлык, трескаются переспелые помидоры и как их заливает холодное болтливое пиво. Их крики забиваются трёпом моей компании, я перестаю реагировать на людей и вслушиваюсь в войну съеденной пищи. Мне нужна дальняя прогулка, где я избавлюсь от съеденного. Но где гарантия того, что никто не найдет свежей блевотины и не свяжет с ней мою недавнюю отлучку? Я не могу взять картонный авиабилет, чтобы улететь к океану. Не могу подняться в горы. Не могу посетить старую воспитанную Европу. Я не смогу перекусить в дороге солеными орешками или горячим гамбургером, оставаясь спокойной и счастливой. Потому что мысли переключатся на поиски туалетной кабинки, где можно запереться и рвать свое птичье горло судорогой неуживчивой жратвы. Мой морской город больно держит меня цепкими клешнями. Здесь мой дом. И здесь мой, запираемый на две медные задвижки сортир, моя заблеванная крепость. Я живу в обнимку с крепким унитазом, как с молодым и надежным любовником, и в этом моя стыдная тайна. И никто не может сказать правду, - ты безумная невротичка, Лолита. И пока этого не случилось, я могу думать, что у меня пока все хорошо. КРИЗИС - Что? Что болит?! – у меня обрывается сердце. Антон приподнимается в постели и хватается за левую половину груди. - Что болит, Антон? Сердце?!! - Жжет… жжет за грудиной… больно… Сердце… - О, господи! Антон! Что делать? Что мне делать? - Там… там, в шкафу… Там аптечка. Принеси «Актилизе»… Шприцы там. Гепарин… Голая вскакиваю с постели, где корчится от острой боли Антон. Скольжу взглядом, - его губы побелели, на лбу испарина. Испарина от того, что мы только что доламывали койку в съемной квартире, самозабвенно исполняя эротические пируэты? Ему действительно плохо? - Антон, где гепарин? Я не вижу! Пулеметные ленты пластмассовых шприцов вываливаются на пол, - кажется, он хорошо подготовился к любому чиху, этот чертов Антон, но не все, не все он предусмотрел. - Нитроглицерин дай… у меня в портфеле… баночка… Лечу в прихожую, задевая голыми боками потертый полированный стол из гарнитура пятидесятых годов, перекошенную тумбочку на трех ножках, - он явно экономил, Антон, снимая для наших свиданий это застиранное логово. В прихожей валяется, по обыкновению, кожаный чемодан Антона, каждый раз разный, - то черный, с латунными пряжками, то тертый желтый, свиной кожи, под цвет ботинок в стиле американских пастухов, то лаковый бордовый. Он щеголь, эта толстая скотина, и заработок его напрямую связан с количеством таких, как я , идиоток, чья жизнь зависит от состояния здоровья и минутного настроения высокооплачиваемого психоаналитика. - Антон! Здесь ничего нет! Где ты держишь свои чертовы лекарства?!! Я сжимаю ладонями щеки и возвращаюсь в комнату. Антон хрипит, сидя на мятой простыне. Его толстые ноги, которые в припадке сексуального вдохновения и общечеловеческой нежности я называла мощными, опущены на пол, ступни посинели, и на коже ярко проступила мелкая венозная сеть. Он поворачивает ко мне лицо, постаревшее сразу на тридцать лет. Синие губы перекошены страданием. - «Актилизе»… «Актилизе» во флаконах… - Я знаю, что «Актилизе» во флаконах! – огрызаюсь, перерывая все содержимое аптечки. Какой он, все-таки, предусмотрительный. Снимать в другом районе города квартиру для утех – и оснастить ее полной аптечкой! Спазмолитики, средства от поноса, обезболивающие разного калибра убойности, гипотензивные средства, мочегонные… Именно эта аптечка навела меня когда-то на мысль, ты сам себя выдал, Антон, не надо быть таким самоуверенным. Я подхожу к нему, щупаю пульс. Наполнение слабое, наверное, сильно упало давление – верный признак качественного инфаркта миокарда. На этот случай Антон и приобрел за бешеные деньги несколько флаконов вещества, разрушающего в первые же часы образовавшийся в сердце тромб. Вопрос только в том, что ввести нужно сразу. Опытные больные носят его с собой постоянно. Антон – опытный больной. И «Актилизе» держал всегда под рукой. Пока не расслабился. Должен же человек хоть когда-нибудь расслабляться, особенно если его работа – общение со странными сумасшедшими. Я летаю по комнате, делая всё, что решила. Мне нужно успеть. - Вызови «Скорую», быстро… На губах его выступает розовая пена. Отек легких – автоматически отмечаю я в поисках трубки радиотелефона. - Алло! Скорая? Инфаркт миокарда, мужчина сорока девяти лет, улица Сегедская, дом… квартира… Лещинская Лолита. Ждем вас. - Они приедут сейчас… Антон, ты слышишь меня? С кем я разговариваю? Антон лежит на спине, тяжело и хрипло дыша. Время то скачет, то останавливается, я не могу уследить за ним. Вдруг кажется, что прошло столетие, а потом время останавливается в одной точке, как в старой школьной задаче – «из пункта А в пункт Б отправились навстречу друг другу два поезда…» Когда они встретятся, наступит конец света. Хотя, наверное, он уже наступил. Раздается дверной звонок. - Скорую вызывали? НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД «Если у мужчины тонкий член, это совершенно не означает, что он плохой человек». Мысль колышется у меня в мозгу параллельно движениям лампочки с прикрепленным к стене двумя шурупами штативом. Лампочка висит над заваленным бумагами, картонными папками на завязках, сломанными карандашами и прочей канцелярской ерундой, столом, Я опираюсь об него обеими руками. Стол шатается, потому что позади меня усердно трудится самый красивый преподаватель кафедры военной медицины и токсикологии, - сосредоточенно двигается, мерно пыхтит и посапывает. Преподаватель молод и хорош собой. Об этом еще до непосредственной встречи с ним доложили мне институтские подружки. Самая близкая подружка, Светочка, вообще потеряла от препода голову. Мама Светочки заведует кафедрой детских болезней. Дочка, не напрягаясь, просто посещает все занятия, вовремя приходя на зачеты, - хорошая оценка ей все равно гарантирована,. - Виктор Васильевич долго выспрашивал, кто ты и как учишься, а потом сказал, что отрабатывать пропуски тебе придётся долго и печально, - шептала Светочка за секунду до пары. Прозвенел звонок, и в аудиторию вошел тот самый грозный токсиколог. Сердце трепыхнулось, оборвало плотные связки перикарда и с плеском шлепнулось в брюшную полость. Преподаватель материализовался из девичьих снов, - высокий, стройный, узкобедрый и широкоплечий, с тонкими чертами лица и изящным носом. Мой мужчина мог выглядеть только так. Прошел к учительскому столу, поздоровался и начал перекличку. Нельзя сказать, что я сильно переживала по поводу токсикологии. Три последних школьных года были посвящены химии, - лабораториям, олимпиадам, турнирам и конференциям. Но только в самом сладком и стыдном сне можно было бы увидеть такого мужчину. Я предельно сосредоточилась. По законам института, преподаватель имел право выгнать меня с семинара, - за десять неотработанных пропусков. Это грозило походом в деканат, выслушиванием воплей краснорожего декана-хирурга, что славился нетерпимым отношением к любым представителям человечества, и старательным тыканьем ему в нос справки о затяжном гриппе. Между тем препод назвал мою фамилию. Я встала с готовностью позорно покинуть помещение. Он же спокойно разглядывал мои руки. Слава богу, успела вчера на маникюр. - Где вы были две недели, Лолита? – спокойно спросил препод, – болели? Ладно. После занятий жду вас у себя в подсобке, каждый день будете сдавать по одной теме. Пока идите к доске. Одногруппники насторожились и приготовились к расправе. Всем понятно, когда убьют одного, - придет очередь других. Слава богу, свойства фосфоро-органических ОВ я выучила еще пару лет назад. Препод был приятно удивлен. Поставил пятерку. Однако отменять пытки по отработке пропусков не собирался. После пары я отправилась искать камеру. Его кабинет находился в подвале старого здания, построенного полукругом. Винтовая лестница впустила в длинный, плохо освещенный коридор. «Кабинет, - сказал препод после пары, - в самом конце коридора, за выступом стены». Я шла, скользя взглядом по пожелтевшим плакатам и красным огнетушителям на стенах, по шкафам со стеклянными дверцами. Внутри, на полочках - противогазы, респираторы, какие-то баллоны, а на крючках - образцы моделей спецодежды различных степеней защиты. Все эти штуки я видела раньше только в учебнике. Долго ждать не пришлось. - Проходите, пожалуйста, - Виктор Васильевич зачем-то оглянулся и быстро запер дверь Личный кабинет похож скорее на камеру пыток. Расположение в подвале бывшего замка только усиливает это впечатление. Посреди каменного пола - длинный металлический стол, такой же, как в анатомке, но без отверстия посредине. - Зачем это? – провожу пальцем по блестящему металлу. - Я занимаюсь массажем, - просто сказал он, - так что вы знаете о сортировке и путях эвакуации раненых? Тему практически вымучиваю. Что я знаю о путях эвакуации, когда я не была на войне? Только то, что во время эвакуации маминой семьи из Украины в Уфу начался обстрел поезда с самолетов. Дед, опасаясь бомбежки движущегося состава, столкнул с поезда жену и двоих детей. Спрыгивая сам, - неудачно приземлился, повредил плечо и ключицу. Спустя сорок лет после войны ещё жаловался на боль в правом плече. Рассказывать нужно вовсе не это, а какие-то схемы и принципы, которые я не знаю, не понимаю и знать, по большому счету, не хочу. Гораздо больше меня интересует сам Виктор Васильевич. Но показывать это категорически запрещено, я мнусь и блею всякую чушь. Кажется, он понимает, что сегодня дождаться от меня каких-то признаков работы ума невозможно. - Чаю хотите? – поворачивается к навесному шкафчику, снимает с полки металлическую коробку. Точно в такой синей, с танцующими индианками, коробке, мама лет двадцать держала черный перец и лавровый лист. Воду он греет кипятильником в литровой банке, чай заваривает в надтреснутых белых чашках. Я выуживаю из сумки половинку бублика и золотистый пирожок с капустой из институтского буфета, не съеденный в обед. Раскладываю поломанный бублик и половинки пирожка на обратной стороне какой-то схемы. Сидим с чашками в руках на его железном столе, болтаем по-детски ногами и разговариваем. Это очень вкусно – есть пирожок с тушеной капустой, запивать сладким чаем с лимоном и смотреть в красивые глаза. Тело размякает, в голове становится пусто и тепло, а в груди сидит что-то щекотное, - ждет, ждет жадно, с нетерпением, ответа на один маленький, подкожненький такой вопрос. Почему преподаватель пьет с тобой чай в своем кабинете, в подвале? Но ничего не происходит стыдного или страшного. Он рассказывает о своей собаке, как у нее случился приступ аппендицита, и операцию делал его друг, с которым вместе учились на пятом, что ли, курсе. Потому что было это далеко от города, а друг мечтал стать хирургом и всюду таскал с собой чемоданчик с инструментами. Вот они и пригодились. Правда, собака после той операции осталась почему-то хромой, видать, задел он ей какой-то нерв. Но все равно она выжила. А иначе бы умерла. Друг потом погиб в какой-то горячей точке. Он был военным врачом, хирургом. Вот такая история… А еще он рассказывает, как плавал вокруг Африки на военных судах, доктором. И ели тогда жареные бананы, потому что картошки не было. Гадость это – жареные бананы, особенно четыре месяца подряд, а вначале – ничего, даже вкусно. Зато дома потом неделями ешь жареную картошку, пока воротить не начнет… Мне бы слушать его и слушать, но здесь нет ни часов, ни окон. Подвальное время стоит на месте. А снаружи может быть уже и ночь. Или утро. Или вообще Новый год, пьяный народ хавает оливье, дети тусуются в своих комнатах, примеряя подаренные варежки и носочки, а взрослые смотрят по телеку «Иронию судьбы»… Мне нужно идти, я сползаю со стола и начинаю прощаться. А вместо прощания он вдруг прижимается к моему лбу губами. И замирает так на несколько бесконечных минут, за которые вполне мог бы быть зачат, выношен и рожден новый ребенок… Модуль по токсикологии рассчитан на три недели. Каждый день я прилетаю в институт с единственной мыслью увидеть Витю, как уже мысленно его называю, беспокойно жду окончания пар, чтобы снова оказаться в подвале. Ведь у меня так много еще незакрытых тем. Он спрашивает меня по предмету, я даже прилично отвечаю, - не хочется перед ним позориться. Потом пьем чай или вино, а у меня с собой уже припасены или две оранжевых мягких хурмы, или пара пирожных, или сосиски в тесте, - мы любим эту студенческую еду одинаково страстно. Из разговоров давно исчез социальный оттенок, мы перешли на «ты», провокационные темы звучат все чаще. Он говорит о сексе так, будто изучал и Тантру, и Камасутру, и Ананга-Рангу одновременно , на практике. Духовность и еще раз духовность, - он очень убедителен в своих тезисах, я слушаю его, раскрыв рот. Куда уж мне, с тем десятком любовников, что были у меня за пару лет взрослой жизни. Кажется, он гуру, и тем более растет жгучая заинтересованность. Еще я знаю почти все о его семейной жизни. Она близится к концу, сказал мне Витя, - жена не любит его, а он не любит жену. Давно хотел ребенка, маленькую кудрявую девочку. Но у жены не может быть детей, - неудачный аборт. Когда-то они испугались будущего. А теперь расплачиваются вдвоем. Вина лежит на обоих и омрачает отношения. Впрочем, какие отношения? Давно уже чужие люди, она даже домой приходит не каждый день. Кажется, у нее есть мужчина, все там вполне серьезно. Впрочем, секс с нею никогда не был ярким, неизлечимая фригидность на анатомической почве. Но что уже говорить об этом, - ошибка молодости… А если бы тогда родилась девочка, - назвал бы ее Юлькой и любил бы больше всего на свете. Да? Тебе тоже нравится это имя? Какое удивительное совпадение, - когда ты выйдешь замуж и родишь дочку, назовешь ее Юлькой. Ты красивая, я представляю, какой красоткой будет твоя дочь… Как красив ты, мой хороший, Витя, Витенька… Он снимает с меня платье. Расстегивает ремешки на туфлях (девяносто долларов – бешеные деньги, белый лак, закругленный носок, наборной квадратный каблук, - последнее слово моды, подружка привезла прямиком из Италии, туда ее возил муж. А у меня мужа нет и вряд ли будет, если только не…) Он раздевает меня донага, а я думаю, что у меня-то как раз могут быть дети. Образ кудрявой Юльки материализуется в пространстве темного помещения, и мы уже здесь втроем, - я , Витя и Юлька. Мы будем счастливы втроем, – должен же быть на земле хоть один человек, которому я смогу быть нужной. Так пусть это будет он, – как никто другой, он заслуживает счастья! Он укладывает меня на металлический стол. Умудрившись как-то очень быстро накрыть его перед этим тонким одеялом и белой простыней. Откуда у него в кабинете постельное белье? – думаю я , а потом вспоминаю, как спала на дежурстве в хирургии, и врач уложил меня рядом, к себе в подмышку, - потому что у меня постели не было, а у него всегда было домашнее белье, - привычка опытного дежуранта. Хотя какие тут могут быть дежурства – на теоретической кафедре?.. Да мало ли. Кафедра военная, может, они охраняют оружие В подвале холодно, боюсь, что скоро стану похожей на синюю пупырчатую курицу. Когда таких кур «выбрасывали» в советских еще гастрономах, за ними выстраивалась бесконечная очередь. Мама говорила, что эти бедные твари умерли своей смертью от голода. Он наваливается своим телом и крепко прижимает к себе. Холод снаружи отступает, но пробирается внутрь. Всегда немного страшно делать «это» впервые, с новым мужчиной. Тем более, раньше «это» никогда не происходило в обстановке, когда за тонкой дверью стучат каблуки, переговариваются мужские голоса, подо мной – металлический стол, похожий на «те» столы в анатомке, с трупами, а сверху – красивый и незнакомый преподаватель военной токсикологии. И как-то все получается не так, как представлялось по ночам. Он не шепчет в ухо нежности, не целует так, как нужно было бы целовать до головокружения. Его руки не ласковы, он не пластичен. И как-то пахнет. Запах то ли домашних сырников, то ли щей из квашеной капусты лезет в нос, я стараюсь не отворачивать лицо, представляя, как утром он завтракает в компании жены, что вроде бы от него совсем ушла… На завтрак у них почему-то щи из кислой капусты, а потом сырники со сметаной. И светлый, приготовленный с экономией заварки, чай, сладкий, как в детском садике. Тогда нам наливали его половником из зеленого эмалированного ведра, подписанного кривыми белыми буквами «чай». Он спешит, словно точно известно время, когда в дверь постучит следующая студентка. Не успеваю ни расслабиться, ни прийти в себя, ни почувствовать хоть какой-то восторг, а Витя замирает, потом, придерживая презерватив, вынимает из меня член. Скосив глаза, успеваю заметить, что член маленький и белый, как аскарида в банке со спиртом. Надо же, - такой большой красивый мужик, - а такой у него мелкий пенис, - мелькает мысль. Тебе нужно одеться, - говорит он, повернувшись ко мне спиной и натягивая на белую выпуклую задницу растянутые серые трикотажные трусы. Молча, беспрекословно сползаю со стола, натягиваю платье, туфли… не знаю, что говорить, - кажется, что этот секс очень мало похож на ту любовь, что представлялась. Скользкий поцелуй в затылок - Витя подталкивает меня к двери: через полчаса заседание кафедры, и нужно еще подготовить доклад. Но мы встретимся на следующем занятии. Кстати, там у тебя еще куча отработок! Подмигивает, торопливо-нежно выталкивая из кабинета. Оставшиеся до конца модуля две недели приходится зубрить токсикологию так, как не зубрился за четыре года еще ни один предмет. Я четко знаю различия в фасонах защитной одежды разных степеней защиты. Разбираюсь в степенях облучения и стадиях лучевой болезни. С ходу отличаю один дозиметр от другого, а устройство оружия массового поражения отлетает от зубов. Потому что Витя строг со мной, как ни с кем более. Вызывает на каждой паре, долго мытарит по теме, но после ответа я остаюсь без оценки. Это означает, что после занятий я должна спуститься в казематы и лечь на металлический стол. Почему-то каждый раз вспоминаю собаку, которой удалили аппендикс. Витя не утруждает себя романтическим обнажением моей хлипкой натуры. «Сама, сама» - словно витает в воздухе. Я снимаю платье и трусы и молча поддаюсь экзекуции. Впереди еще государственный экзамен. Военная токсикология – это не хухры-мухры в медицинском ВУЗе. Есть вероятность, что на экзамене отвечать придется именно ему. Вот и брожу я вниз-вверх по винтовой металлической лестнице. Мы не ведем задушевных бесед. И чай он уже не предлагает. Скорое унылое совокупление посредством белого тоненького члена, скорый финал, «одевайся» и «до завтра, у нас еще много неотработанных тем». В принципе, мне плевать и на его сморщенный пенис, и на походы вверх-вниз по винтовой лестнице под взглядами других преподавателей. Если бы только я не видела других девушек, украдкой покидающих этот подземный кабинет. Меня душит ревность, - девицы выше, стройнее, красивее и ярче меня. Кроме того, он улыбается им. А я давно уже не видела его улыбки. Впрочем, успокаиваю себя мыслью, что эти девушки не прошли еще стадию чаепития и разговоров о полуразвалившейся семье и милом ребенке по кличке Юлька. Снова стою, опираюсь руками о столешницу. Письменный стол шатается и стучит о стену, колебания передаются лампочке, прикрученной убогой держалкой к стене. Витя пыхтит у меня за спиной, обдавая запахом сырников и щей из кислой капусты.. Я считаю фрикции, примерно прикидывая, когда вывалится из меня хлипкий пенис, и можно будет свалить по делам. Из коридора, как обычно, доносятся звуки шагов и мужские голоса. Внезапно к привычным более или менее безопасным звукам добавляется новый, и спина покрывается холодным потом. По каменному полу решительно цокают металлические шпильки. Я выдергиваю кусок Вити из себя и отпрыгиваю на средину кабинета, к столу. Быстро натягиваю платье, молясь, чтобы не надеть его навыворот, втискиваю ступни в туфли. - Витя! Открой! – женский голос взрывается в черепе. – Открой немедленно! Виктор Васильевич, самый красивый преподаватель кафедры военной токсикологии, босиком бросается к двери и набрасывает рубашку на дверную ручку. Ручку дергают снаружи, и оттуда сочится явное намерение выломать дверь с мясом. - Открой! Я знаю, что ты здесь! Он прижимает палец к губам: - Молчи! Собственно, я не чувствую ни малейшего желания выступать. Напротив, хочется, чтобы разверзся каменный пол, обнажился скрытый подземный ход (чем черт не шутит, – это же старинное здание!), и я смылась подальше из этого балагана. - Кто это? – одними губами спрашиваю я . - Жена. Жена, очевидно, вернулась после долгого заплыва с серьезным мужчиной, - «у них там все серьезно!» и решительно настроена вернуть любимого мужа в лоно семьи. Наверное, что-то важное для себя осознала. Глядя в его перекошенную физиономию, я понимаю, что именно такая интерпретация событий с моей стороны была бы ему сейчас наиболее выгодна. Но интонации снаружи принадлежат явно не женщине с огромным чувством вины. Это голос человека, чьи законные права нарушены, оскорбленного и страшного в своих эмоциях. Стою, опираясь спиной о железный стол. «Пусть скорее грянет буря!» - неуместно всплывает призыв классика. Какая глупость. Пусть утихнет буря, чтобы я немедленно удрала с поля этого позорного боя! - Девушка в клетчатом платье, я видела вас! – кричит снаружи разъяренная дама. Я молчу. Такое поражение не представлялось мне даже в самых бредовых фантазиях. За дверью прибавляется количество мужских голосов. Внутрь доносятся тихие увещевания. Очевидно, коллеги из мужской солидарности взяли на себя роль успокоителей разгневанной женщины. Витя подходит к двери. - Ира, отойди в преподавательскую, я сейчас приду. - Сволочь! Подонок! Ты ебешься там с какой-то сукой, а я должна уйти, чтобы выпустить твою потаскуху? - Это не потаскуха, это обычная студентка. Мы занимались по предмету. - Почему же ты не откроешь дверь, скотина? - Я не намерен разговаривать с тобой в подобном тоне. Отойди, я выпущу девушку, и мы поговорим. -Почему же ты не можешь открыть прямо сейчас? – его жена логична, и я сейчас, как ни странно, полностью на ее стороне. Другое дело, что в данный момент я – ее ситуативный враг. И она представляет для меня реальную угрозу. Голый Витя у письменного стола. Одежда лежит на металлическом столе – посреди комнаты. Угол, где он находится сейчас, не попадает в зону обозрения из замочной скважины. Но путь к средине комнаты как на ладони виден от двери. Я понимаю, что он не доверяет рубашке, закрывающей маленькое отверстие. Может, там есть щель, и жена засечет его обнаженность в момент пробежки. Кроме того, эта рубашка и есть его верхняя одежда. Он может либо сдернуть ее и надеть, открыв тем самым обзор, либо стоять голым, но за прикрытой замочной скважиной. Выхода нет, он стоит без штанов и рубашки, пенис съежился и спрятался в низ живота. «Боится, что оторвут» - неуместное злорадство шуршит у меня в голове. Надо полагать, что в подобной ситуации оказывались когда-то и его коллеги. Потому что, с полным пониманием проблемы, они приходят к нему на выручку. Высокий женский голос отдаляется под утешающий мужской шепот. Наверное, ее таки увели в преподавательскую. Витя несколько минут по-звериному прислушивается. Потом делает красноречивый жест по типу «выметайся» и рывком открывает дверь. Хватаю сумку и лечу по коридору к спасительной винтовой лестнице. Вдогонку летят проклятия, а любопытные взгляды выжигают круглую дырку в спине. По улице стараюсь не бежать. В животе у меня шевелится мокрая пухлая жаба. Если растрясти жабу – меня вырвет прямо посреди улицы. В принципе, очень хочется вырвать. Жаба плещется в непереваренных остатках пошлости. В этом же тухлом месиве болтаются ошметки романтических чувств, красная мясная Юлька, крутобедрые студентки с белыми волосами, скрученными так, будто прошли цикл стирки в стиральной машинке – автомате. Все эта гадость сплелась в плотный клубок, что подпрыгивает и стучит снизу в диафрагму, вызывая нестерпимую тошноту. Я сворачиваю за угол, где вход на рынок. Через два ряда – бочки, там продают квашеную капусту. Мне кажется, что кислый вкус – единственное, что может спасти меня в этот момент. Прошу килограмм, расплачиваюсь. По дороге с базара до остановки автобуса я иду, непрерывно запихивая в рот большие мотки тонко нарезанных листьев. Тошнота уходит. Но жаба в желудке распухла до такого объема, что я не могу дышать. Захожу в подворотню, склоняюсь за воротами и нажимаю руками на область желудка. На асфальт выплескивается только что съеденная, плохо прожеванная, капуста. Но жабы еще нет. Засовываю в рот два пальца, нажимаю на корень языка. Рвота толчками вылетает изо рта. Вот на свежевырванную кучку падает недожеванная красотка с длинными ногами. Вот вылетает мелкий белёсый пенис. Вот плюхается красномясый младенец Юлька. И наконец, шмякается жирная тушка омерзительной дохлой жабы. Все. С пустым желудком и пустой головой иду к автобусной остановке. Дома я съем кастрюлю борща, остатки квашеной капусты, трехлитровую банку маринованных огурцов, пакет печенья и залью это все двумя литрами мёда. Мерное движение челюстей, скрип измельчаемой зубами еды, - вот что может заглушить мысли, прыгающие в голове, стучащие в крышку черепа, как в крышку гроба. Мой череп – ненадежный саркофаг для полуживых копошащихся чувств. Мысли шевелятся, как бледные, гниющие, но все еще живые мерзкие существа. Запах гнили сочится изнутри, проникает в ноздри, я задушу их жеванием головок ядреного чеснока. Скрип разрушающихся скелетов унижения, боли, тоски заглушу звуком перемалываемой зубами крепкой капусты. Засыплю сверху сахарным песком, пустыня Сахара – надежное кладбище для молчащих мертвецов. И вырву. Вырву с наслаждением, засуну два пальца в горло, как в канализацию, обдирая ногтями нежную слизистую вонючей трубы, через которую вылетят в унитаз истлевшие трупы нравственных страданий. Стану пустой и чистой. А ночью буду сжимать кулаки, чтобы не кричать от внутренней боли, выслушивая тезисы родительской конференции за тонкой дверью со стеклом, отграничивающей мою маленькую спальню от всего остального мира. ПЕРИОД РАЗГАРА - Родители ненавидели вас? – Антон неловко меняет позу. Он долго терпел неподвижность, - все два часа, что я корчилась в кресле напротив, вываливая ему куски старой плесневелой правды своей жизни. Почему я рассказала ему эту давнюю грязь, даже не знаю. Я забыла о ней сама, и в течение более чем двадцати лет вспоминала только в тех случаях, когда подсчитывала количество мужчин в своей жизни. Даже не мужчин, - количество членов. Витя давным-давно похоронен под обломками более свежих событий. Что подтолкнуло меня к этим воспоминаниям? - Вы неправильно ставите вопрос, доктор, - я позволяю себе иногда ерничать в разговорах с ним. Понимая, что он понимает (какая замечательная логическая конструкция!), – ирония и агрессия – всего лишь покрывало, дырявая органза на гнойной куче моих кошмаров. - Как опытный психолог, вы должны были бы спросить, не казалось ли мне, что родители меня ненавидели. Вы должны укрепить клиента в уверенности, что вся его действительность, - это только представления о ней, в реальности она же может быть совершенно другой! Антон с наслаждением откидывается назад. Как он, все-таки, зараза, красив! Эти черные волосы с проседью, волосок к волоску, тонкие кисти, наманикюренные ногти. Мужские руки иногда могут свести меня с ума. Как часто я ловилась на эти анатомические детали, наивная дура. Проходя мимо тех, с кем могла бы быть счастлива, наверное, просто потому, что у них не было таких рук. А может, и нет. Может, все мнимые возможности, все мое ускользнувшее счастье, - лишь только иллюзия, нужная как раз для того, чтобы всю жизнь носить в себе сомнения и голод. Жажду счастья. Желание ухватить за хвост жалкие секунды уходящей жизни. Я остро чувствую зыбкое время, оно сочится, как песок из сложенных пальцев, вот и сейчас, я ощущаю эти шлифованные древностью песчинки, данные мне во временное пользование… Очнись, Лола, ты платишь ему пятьдесят долларов в час. Как сытый кот, сидит он напротив. Когда ты ловишь пальцами ощущение уходящего времени жизни, он испытывает приятное чувство нарастающего утяжеления карманов. Твои доллары, - вот его заветная мечта. Пользуй его, девочка, выпей из него все душевные силы, измотай его, измочаль, - ты делаешь это за свои кровные деньги. Пусть работает, пусть истекает потом, пусть его тошнит так же, как тошнит и тебя, - такая у него работа, хэ-хэ, никто не говорил, что ему должно быть легко и приятно, ведь так? Один только момент царапает мне изнутри висок. Почему Антон сосредоточил свое внимание не на героическом образе кобеля Вити, а перешел к анализу отношений с родителями? Я рассказала ему нечто несущественное? Или он считает, что это слишком острый для меня вопрос? Странная деликатность Антона несколько тормозит ход моих мыслей, но я быстро выбрасываю ее из головы. В конце концов, врач здесь – он. И только ему решать, что именно мне полезно. «Для достижения цели вы должны доверять своему врачу» - как часто я говорила людям эти слова , находясь по другую сторону больничной койки. Здесь врач – не я . Я должна доверять своему врачу. Я должна доверять Антону. - Хорошо, мы можем об этом поговорить, - дежурная шутка, я давно уже перестала принимать эти слова всерьез и ненавидеть их так же, как ненавижу тупые анекдоты о врачах, из разряда «вскрытие покажет». Смеюсь. - Давайте поговорим, Антон. У вас ведь много еще времени? - Ровно столько, сколько нужно для того, чтобы помочь вам. Ни минутой меньше. Я готов помочь, но стараться вы должны сами… Я разглядываю Антона, развернувшись лицом к нему. Странно. Почему же, все-таки, я вспомнила Витю с его блудливым пенисом? (Кстати, интересно, научился ли он уже более осмотрительно применять его по назначению без санкций жены?) Из общей идеи психоанализа я твердо усвоила только одно. Все события, о которых рассказывает клиент, тем или иным образом связаны с присутствующими на сеансе людьми, - аналитиком и его клиентом. Каким фантастическим образом мое истерзанное подсознание сумело на втором по счету сеансе психоанализа увязать в одно целое образ козла Вити и сытого, благополучного, насквозь порядочного Антона?.. Загадка. Невозможно ответить на этот вопрос сейчас. Одно из двух: или разгадка придет ко мне позже, или я слишком распустила свою фантазию, и та скачет, подобно невменяемой лошади по оврагам, беззастенчиво задрав прикрывающий задницу хвост. Так или иначе, время покажет. АНАМНЕЗ Это неправда, что ребенок забывает все события, происходившие с ним до пяти лет. Неправда. Да, он не помнит лиц, обстоятельств и имен. Города и страны надежно прячутся в криптах его сознания. Вот только чувства врезаются намертво. Черт его знает, из каких семян прорастает потом зло, сумасшествие и ненависть. Вроде бы любили. Вроде не обижали. Покупали сладости и роликовые коньки ко дню рождения. А на новый год Дед Мороз прилетал на запряженных оленями санях, - это можно было «увидеть» в покрытом снежными узорами окне, - и укладывал под елочку подарок производства Одесской кондитерской фабрики. Был велосипед. И было пианино. Фортепианная классика в упрощенных нотах. Были рыжий кот и морская свинка. Каникулы в селе и клизменная программа в санатории после тяжелой болезни. Все было как у людей. А почему же ему, этому проклятому ребенку, потом всю жизнь кажется, что родители его ненавидели? Непонятно… Иногда всплывают в памяти уже взрослого человека некие разговоры. Как тени прошлого. Чьего прошлого?.. Было ли это в действительности? Или опять какая-то странная продукция сознания, которое само придумывает образы, наделяет их лицами и голосами и заставляет говорить. Что они говорят? О ком? Имена действующих лиц в генеалогическом древе присутствуют, тут нельзя обвинить подсознание в непоследовательности. Но было или не было то, о чем они говорят? Спросить уже не у кого. А себе верить трудно. Потому что дети забывают все, что было с ними до пяти лет. Так принято считать. «А потом моя двоюродная сестра Нина призналась, что была у нее такая мысль, - забрать тебя и уехать тайком в другой город, чтобы никогда мы тебя не нашли». «Как это, мама, - забрать? Зачем? А как же ты?» «Нина любила тебя. А своих детей у неё не было». «…Ты была золотым ребенком. Тебе было одиннадцать месяцев, когда мы приехали к моим родственникам в Сумы. Там ты и говорить научилась по-украински. Потом переучивали. Толстая такая была, жизнерадостная. Нина сомневалась вначале сильно, брать – не брать. Я уложила тебя на кровать и стала менять ползунки. Ты лежишь, улыбаешься – и ноги подаешь. Левую сначала, потом правую. Она посмотрела на это, потом увидела, как ты спокойно кушаешь, - и решилась оставить». «Надолго?» «Надолго. Ты у них больше двух лет жила. Я приезжала каждые два-три месяца, - туда летали самолеты. Меня еще укачивало сильно. А времени не было. Папа сказал, что я должна выучиться. Вот я и училась на вечернем, а днем работала в библиотеке». «А как же Нина, как она могла два года возиться с чужим ребенком? Я помню, мама, она же почти слепая была». «Помнишь? Так странно, что помнишь. Обычно дети забывают, что было с ними до пяти лет. Нина – да, была почти слепая. Диабетом страдала с детства. Когда я приезжала, у них пол в доме был залит сладкой мочой. Она не чувствовала, что уписывается. И запаха не чувствовала. А мухи слетались на сахар. Я была в ужасе просто, когда нашла тебя сидящей на полу без штанишек. На этом записанном сладком полу. А ты улыбалась беззубо и Нину мамой называла. По-украински». «…А потом они усадили тебя обедать за общий стол. Алик, муж Нины, сколотил тебе высокий стульчик с ручками. Ты сидела в центре и крепко так держала огромную куриную ногу. Смеялась и грызла ее деснами. Алика так и называла – «Алика». Они смеялись». «Да, я помню, у них еще были желтые канарейки, в круглой клетке». «Да, Алик вообще любил животных. Он всех любил. И тебя любил». «А ты любила?» «Любила больше всего на свете. Скучала очень эти два года. Но если бы я тогда не выучилась, так и сидела бы в библиотеке». «А библиотеку я тоже помню. Когда ты отлучалась, я с лестницей ходила там между стеллажей. Помню, нашла Рабиндраната Тагора. Мне имя так понравилось. Заворожило. И я всего прочитала. Не помню только, что я поняла, мне и было-то лет семь. Помню, что стихи. А о чем, не помню… А еще помню, как в библиотеку влетел маленький воробей. Ребенок, у него на клювике были такие желтые полосочки по краям. Я гонялась за ним, пока он не устал. Он начал тяжело дышать и упал на пол, между книжных шкафов. Я поймала его твоей шляпой и вынесла в сад. Он попрыгал немножко вокруг, а потом улетел. Так жалко было. Я ведь уже запланировала, как стану кормить его червячками и гусеницами..» «…А мы ездили к ним потом в Сумы?» « Я ездила. Тетя Оксана, мама Нины, заменила мне мою маму, с девяти лет. Когда маму убило оползнем, дед не мог справиться с двумя детьми. Толика, младшего, оставил при себе. А меня забрала сестра покойной мамы, Оксана. Я противная была до ужаса. Помню, как есть не хотела и тайком вынесла тарелку с кашей козе. Это в голод, когда есть вообще нечего было, я потащила козе тарелку каши. А коза была очень вредная. Унюхала, что кашу уже ели, да как поддала рогами! Каша вся мне на платье и вылилась. Так вот, я даже тогда не получала. Тетя Оксана только посмотрела на меня так, я худющая, она - вообще кожа да кости, платье единственное в каше. Посмотрела, кусок мыла выдала, иди, говорит, стирай…» «Мама. Почему ты ездила, а меня не брала?!» «Нина тогда обиделась страшно, когда я решила тебя забрать. Я узнала, что ты спала у них в постели, между Ниной и Аликом. Нину мамой называла. А когда Нина призналась, что хотела тебя увезти, я испугалась. Нина плакала, когда я сказала, что забираю тебя. И сказала – не привози больше. Они привязались к тебе…» «А я как? Не плакала?» «А ты вообще перестала разговаривать на полгода. Лежала у стенки и молчала. Вначале думали, что у тебя менингит. Хотели забрать в больницу. Я не дала. Обследовали. Потом повезли к профессору. Он посмотрел, - нормальный, говорит, ребенок. Помолчит и заговорит, не переживайте». « И что? Заговорила?» «Ну, ты же видишь, что заговорила! Но к Нине я больше тебя везти не хотела. Ты так пережила тяжело, я решила – хватит с меня и Нины, и Алика. Приезжала к тете Оксане, так Нина вообще старалась и не встречаться со мной». «А сейчас они что?» «Нина ослепла совершенно, у нее же диабет». Когда приходят такие голоса, замираешь. Втягиваешь внутрь чуткие щупальца внешних ощущений и прекращаешь реагировать на картинки и звуки окружающего мира. Погружаешься в радио-спектакль, звучащий в голове. Проживаешь его. И думаешь: «Как могла она бросить меня тогда, когда была нужна больше всего в жизни. А потом отобрать и ту маму, с которой пришли любовь и покой. Как могла?» ПЕРИОД РАЗГАРА Ленка серьезно жует. Решительно тычет вилкой в судок, - лохмотья пекинской капусты, трусливая редиска, победительно-красные кружочки крабовых палочек из рыбы сурими, лужица майонеза с тусклым блеском. На мятой фольге серые ломти запеченной свинины, с мраморными разводами белого жира. Потому что Пасха. В офисе многие соблюдали Великий пост. Таскали на работу судочки с постным борщом, жареные грибочки, морковные голубцы. Длинный зеркальный коридор, монструозный в своей черной глянцевой плитке, отражает многократно умноженные суетливые фигурки, с муравьиной поспешностью таскающие в кухню свои мешочки, пакетики, коробочки, баночки. На время обеденного перерыва шикарный бизнес-центр пропитывается томатными и луковыми запахами домашней кухни , чеснок просачивается в блузки, в подмышки, грибами пахнут гламурно уложенные волосы. Что поделаешь, - обед. Голодный сотрудник подобен голодной собаке, - она не способна работать. Тявкает и скулит. И нос ее трепещет в поисках кусочка еды. Великий босс – против всеобщей обеденной мобилизации. Он против запаха жареного лука, против маринованных огурцов, горохового супа с копченой грудинкой, жареной курицы, холодца и горячих сырников. Великий босс спускается в собственный ресторан на первом этаже бизнес-центра и великосветски поглощает чудесные блюда, о существовании которых мы, может, и догадываемся, но цена на них выходит за рамки самого смелого нашего воображения. Босс – миллионер, этим сказано все. Что можно боссу – нельзя нам. То есть, конечно, можно, но просто не по карману. С тринадцати до четырнадцати дня ультрасовременная офисная кухонька заполняется толпами жаждущих, страждущих, жующих. Над барной стойкой нависают щеки и локти. Скрежет передвигаемых по светлой плитке пола металлических ножек узких стульев с ярко-оранжевыми сиденьями заглушается смехом, шутками, бряцаньем посуды. Мы жуем и набираемся сил. Со своим бутербродом там пристраиваюсь и я . Рядом обычно сидит Ленка. Вообще, Ленка сидит на диете. Бессрочной, непрекращающейся, бесперспективной. Овсянка в восемь, салат и мясо в час, гречка в пять, кофе с молоком в полседьмого, жареная картошка с квашеной капустой и салом – в десять. Потому что во время процесса насильственного истощения самой себя нельзя пропускать приемов пищи. А жить почему-то начинает хотеться только после жареной картошки. Статьи о чудодейственных диетах Ленка вылавливает в интернете каждый день. Каждый день изучает. И каждый день приходит к выводу, что любые диеты – суть обман, наваждение, пустая трата времени и нервов. Весь ее жизненный путь – печальное тому подтверждение. Печально отражение ее в зеркале. Мясистая фигура «где будем делать талию?». Мощная колонна шеи – подставка для квадратной челюсти, плотно сжатых узких губ и щек, вызывающих ассоциации с коренастыми боровичками, завалившимися на бочок в корзинке из моего глубокого детства. Дулька на плоском затылке, скрепленная наспех заколкой-крабом. Ее голос тоже вызывает грусть, - Ленка разговаривает громко, уверенно и в нос. Жестикулирует щедро и настойчиво, доказывая свое право на свободное существование свободомыслящей личности. Печально Ленкино одиночество, разбавляемое раз в полгода одноразовым сексом со случайными чужими мужчинами. Старуха-мать, истово следящая за нравственной чистотой незамужней дочери. Двухкомнатная хрущевка в пятиэтажке, с окнами, выходящими на железнодорожные рельсы, с грохотом проходящих мимо поездов, с влюбленными парочками, чей путь лежит в какую-то более светлую и счастливую жизнь, чем та, что стоит неподвижно за пыльными окнами на первом этаже замученного тщедушного дома. Никого не может пригласить Ленка к себе. И потому, что кухонька старая и грязная. И потому, что никогда не позволит ей мама оставить на ночь симпатичного Ленке мужчину. Потому что стыдно это и не по-человечески. Сначала надо выйти замуж, а потом уж ложиться в постель. А вот замуж никто за тридцать пять лет так и не взял. И вряд ли возьмет. Потому что у Ленки толстый живот, квадратная жопа и походка сваезабивающего механизма. Странные люди эти мужчины. После того, как Ленка старательно ответила на вопросы раздела «Автопортрет» на популярном сайте знакомств, они вообще перестали ей писать. Я видела ее анкету. Там спросили «какой видят вас окружающие люди?». Ленка написала «очень умной», чем и доказала собственную глупость. Там не спрашивали, умеет ли она готовить. Но пока жива мать, это и не обязательно. Прошлым летом, в порыве отчаяния, Ленка оформила ипотечный кредит на шестьдесят тысяч долларов. Ее будущая однокомнатная квартира в светлом доме ждала, приманивала будущими эротическими сценами, воздухом свободы, самостоятельностью и ожидаемой на протяжении тридцати пяти лет взрослости. А потом грянул кризис. И Ленка с ужасом ждет момента, когда банк отберет их двухкомнатную квартирку возле железнодорожного полотна за просроченные платежи… Ленка серьезно жует. Решительно тычет вилкой в судок, - лохмотья пекинской капусты, трусливая редиска, победительно-красные кружочки крабовых палочек из рыбы сурими, лужица майонеза с тусклым блеском. На мятой фольге серые ломти запеченной свинины, с мраморными разводами белого жира. Сегодня она надела ярко-розовые колготки. Потому что весна. Ленка проникает мне в мозг, ее толстые члены шевелятся в невыразительных извилинах серого вещества, цепляются длинными розовыми ногтями за сосуды, вызывая простреливающие спазмы. Господи, как страшно мне стать такой, как Ленка. Страшно распухнуть, обвиснуть, страшно примерить образ ее жизни, заблудиться в тупиках мысли. Высвобождаемые кишечным соком белковые молекулы из скромного кусочка вареной говядины, моего сегодняшнего обеда, вскипают, поднимаются в голову, блокируя те пути, по которым мой мозг обычно распространяет спокойствие. Ленка, Ленка начинает жить во мне, со своими дурацкими колготками и всеми жизненными неурядицами! Мои черные волосы светлеют, скручиваются в крупные Ленкины локоны, мокреют от Ленкиного пота и облепляют мой, пока еще тонкий, затылок. Кусочек черного хлеба и тонкая говяжья вырезка – главные враги в моем теле, я борюсь с ними, но пока они побеждают, стремительно превращая меня в чуждое, несчастное существо. Я должна немедленно от них избавиться. Путь из кухни в мой кабинет (это замечательно) проходит мимо туалета. Я влетаю в кабинку, склоняюсь над сверкающим отверстием унитаза. О, мой белый незаменимый спаситель. Придерживаю на груди кружева блузки и крупный медальон с семикаратным хризолитом, - иначе их обрызгает полупереваренной Ленкой. И нажимаю на область желудка. Мясо, хлеб, сладкий чай. Горячие мутные брызги, кислые и пенистые. Ну вас к черту, вы чуть не затащили меня в пропасть этой ужасной жизни! Пусть я сдохну от истощения, но только пусть останусь худой. Пусть жилистой, пусть угловатой. Зато мое тело никогда не будет похоже на сноп под названием «Ленка». Свободная и пустая, я подхожу к зеркалу… Все так, все так, ничего не изменилось. Затянутая в узкий черный костюм высокая фигура, узкие бедра, узкие кисти, длинные ноги и полное отсутствие филейной части. Глаза в пол-лица, нос в пол-лица, в пол-лица – губы. У меня все в пол-лица. Даже задница. Я ношу короткое каре. Иллюзия, что оно придает мне демоничности, прочно сидит в затылочной части мозга, поэтому я всегда прошу подбривать мне затылок. Внешне это самая уязвимая часть меня. В затылок можно получить самый нежный поцелуй. И напороться на холодную броню этой моей демоничности впоследствии. Возможно, она кого-то и смешит, но для меня это самая сильная защита. По крайней мере, внешняя. Я никогда не стану квадратной, как Ленка. Иначе утрачу свой последний видимый рубеж. * * * Я отношусь к тому распространенному типу людей, которому одна часть населения моей страны может позавидовать, а другая – не заметит, даже если размажет их кишки по асфальту колесами своих джипов. Утром я могу радоваться тому, что у меня есть квартира в центре большого города, и на работу я еду в собственной машине. Вечером же я могу впасть в уныние, вспомнив, что в стиральной машине оторвался барабан, а денег нет, и не предвидится, двухконтурный котел течет, но нет у меня такого мужчины, кто возьмет ремонт в свои руки и оплатит его за мои прекрасные глаза. Друзей практически нет. Почему так получилось, не знаю. Наверное, меня всегда быстро разочаровывали люди, от которых я ожидала лучших поступков, чем они демонстрировали. Может быть и так, что я ошибаюсь в любых своих предположениях и заблуждаюсь гораздо больше, чем могу представить. Как бы то ни было, мне плевать. Я привыкла к одиночеству, я научилась пить его терпкое вино и , словно измываясь над собой и противореча реальности, находить в нем сладость. Иначе не выживешь, без сладости. Не найдешь – превратишься в стерву. А становиться стервой мне нельзя, потому что в доме моем живет Кот. Еще есть хомяк, но он просто мышка, и я не называю его с большой буквы. Зато его прекрасно понимает Кот. Днем они остаются вдвоем, и Кот присматривает за хомяком – как тот бегает в бесконечном своем колесе жизни. Кот смотрит, чтобы у хомяка все было хорошо и заодно развлекается. Для Кота в нашем доме шоу хомяка не имеет конкуренции. Когда мне особенно грустно, я разговариваю с Котом. А с хомяком я не разговариваю. Кот все понимает, - хомяк нет. Работаю я бухгалтером. Это та крысиная должность, занять которую я сподобилась после нескольких лет работы в больнице и спешной переквалификации, - после неутешительного вывода о том, что дальше за больничные деньги жить нельзя и не получается. На работу я хожу за деньгами, она высасывает из меня силу и в качестве компенсации за это выдает жалкие стопочки денежных знаков, которые я потом трачу на приобретение силы, чтобы ходить на работу. Такое ежедневное шоу. В день зарплаты покупаю себе бутылку вина, а Коту – несколько мышек из витаминной пудры. Мы отмечаем наш маленький праздник и мирно засыпаем. Ночью он спит у меня на подушке. Мы делим с ним ложе. Он порядочный, воспитанный, перед сном всегда моет ноги и не икает мне в лицо сырой рыбой, как это делала когда-то одна моя знакомая кошка. Мы вдвоем уже пять лет, но соблюдаем дистанцию, и по его молчаливой просьбе я не лезу к нему с дурацкими нежностями. Кот пришел ко мне сам. Я выходила утром из дому, собираясь на работу. Открыла входную дверь – у порога сидел кот. Пушистый, дымчатый, с плоским лицом. Он медленно вошел в коридор, обвил хвост вокруг моих ног и поднял зеленые глаза. Я удивилась тогда, - мало ли, прибилось чужое животное (хозяева будут страдать!) – а ведет себя так вальяжно. Пригласила в кухню, налила в блюдце молока. Кот деликатно выпил и осмотрелся. «Ищет туалет» - сообразила я и метнулась на балкон за поддоном от большого цветочного горшка. Кот понюхал предложенную мисочку, приподнял хвостик и напустил в нее лужу. Он вел себя так, будто жил со мной всегда. Будто знал меня. И спать стал сразу в моей постели. Что-то колдовское чудилось мне в начале знакомства с Котом. Он хорошо разбирался в моих настроениях и интонациях голоса, проверял, выключены ли свет и газ. Показывал, что пора помыть полы. Первое время мне казалось, что живу я не с животным, а с человеком. Впрочем, это продолжалось недолго, и я благословила то утро. Потому что гораздо лучше жить с таким животным, чем с каким-то человеком. Имя к Коту прицепилось как-то сразу. Пухлые щеки требовали слога «Бу». За ним логически следовало сказать «ня». Но за несколько дней Кот переименовался из банального Буни в благородного Бунина. Что-то дворянское присуще облику моего Кота. Сейчас отношения наши близки настолько, что он понимает меня без слов. Если я устала, или кто-то обидел и я плачу, только Кот видит мои чувства . Он ложится рядом, кладет руку мне на голову и - молчит. А я слушаю его спокойное дыхание. - Не плачь, - бормочет Кот баритоном царя Соломона – мне почему-то кажется, что царь Соломон в свое время разговаривал именно голосом Кота, - все пройдет… и это – тоже… Каждый день проходит в ожидании вечера. А вечером я сожалею, что день прошел, что безвозвратно исчезло еще двенадцать часов жизни, и ничего за это время не произошло. Что должно было бы произойти, я не знаю. Но чувствую, что это должно быть что-то такое, от чего коренным образом изменился бы способ моего растительного существования, жизнь обрела бы вкус и цвет, и чтобы я , наконец, перестала рвать. НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД! - Боли в животе, тошнота, изжога? – уныло спрашивает меня гастроэнтеролог. Я приперлась к нему в надежде, что он даст чудодейственную таблетку, что решит все проблемы раз и навсегда. Когда это было? Лет пятнадцать назад. Мне - двадцать, и ночные родительские совещания по поводу моего аппетита, усугубляющего их нищету, заставляют меня дрожать под одеялом. - Сегодня она сожрала килограмм колбасы, два кочана капусты и коробку сахара, - ненависть дрожит в голосе мамы, папа громко сопит, но молчит. - Сколько это может уже продолжаться, она же проглот! Она сожрет нас самих! Когда ты повесишь замки на холодильник и кладовку? – мама не пытается даже говорить тихо, она знает, что я все слышу за закрытой дверью спальни. Но знает ли она, как трясется сейчас мое тело, как я дрожу, как колотится сердце, - и как я ненавижу их, родителей? Наверное, знает. Иначе она говорила бы мне «доброе утро», целовала бы в лоб, как это было в детстве. Возможно, интересовалась бы моими делами, учебой, может быть, она даже спросила бы, где я иногда ночую, есть ли у меня парень, и как его зовут. Может, дала бы какой-то женский совет, которых мне так не хватает сейчас, когда я учусь в этом сложном институте, попасть куда удалось без денег и связей. Я чуть не сошла с ума во время вступительных экзаменов, а может, и сошла, потому что явственно ощутила, как лопнул обруч, стягивающий лоб и виски за полгода вступительной компании. Я думаю, мама чувствует, что я ненавижу ее. И ненавидит меня сама. Я ищу другие источники любви. Ищу, где придется. Где, мне кажется, я их вижу. Если бы у меня была другая мама, наверное, я смогла бы иногда плакать. Потому что бывает так, что эти источники оказываются зловонным болотом. Оно затягивает меня властно, с чавканьем, с хлюпаньем. И я не могу вытащить из него ноги. И не смогу, наверное, всю оставшуюся жизнь. *** В обнимку с унитазом я живу уже двадцать лет. Давно прошли и забылись попытки вернуть себя к нормальной, глянцево-журнальной, в моем детском представлении, жизни. В ней стройная черноволосая красавица с зелеными ведьмовскими глазами запаривала бы по утрам в маленькой чашке две ложки овсянки и красиво, деликатно, отправляла в нежный рот серебряной ложкой с вензелями на ручке. Овсянка по утрам улучшает цвет лица. Особенно, если, по новой моде, смешать ее с изюмом, богатырскими ядрами грецких орехов и прозрачной курагой, купленной на рынке у белозубого южанина. Остались в прошлом посещения передовых гастроэнтерологов, с основной жалобой «доктор, я вырываю принятой пищей». Давно сданы все анализы из всех телесных отверстий, проглочены все длинные шланги с волоконной оптикой и лампочками на конце, высе | ||||||||||||||||||||||||||||
КОММЕНТАРИИ
| ||||||||||||||||||||||||||||
Оригинал текста - http://teplovoz.com/creo/19659.html | ||||||||||||||||||||||||||||