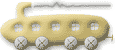
2009-01-23 : mercurianka : Оловянная ложка
| Конечно, если бы я была ну хоть немного умнее, смелее, и относилась к жизни хоть чуть-чуть наплевательски, - так, как относятся к ней мои соседки по палате, - я бы сейчас спокойно спала и, может, даже видела бы какой-то сон.
Увы, во мне нет ни ума, ни храбрости. И плевать на обстоятельства я тоже не умею. Поэтому я лежу, укрывшись одеялом с головой, и меня бьет трусливый озноб. Потому что через полтора часа должна прийти Эвелина. А Эвелина Дмитриевна – настоящая сука. Воплощенный ужас оторванного от семьи подростка. Наказание за грехи. Прошлые, и я думаю, что и будущие. *** В этом треклятом месте я очутилась по случаю невероятного везения, иногда выпадающего на долю честных членов профсоюза, исправно выплачивающих членские взносы, распространяющих дурацкие марки и хранящих на полочке с ненужными вещами свой профсоюзный билет. Как оказалось впоследствии, марки распространять было-таки нужно, и ношение копеечных взносов в кассу профсоюза – тоже пригодилось. Иначе бы я, дочь рядового преподавателя с кристально-честной политической репутацией и инженера, подающего вечные надежды, никогда не очутилась бы в этом санатории. Хотя сейчас, лежа на жесткой койке и не давая себе заснуть стуком собственных челюстей, я думаю о том, что, возможно, моя жизнь повернулась бы совсем по-другому, прояви моя мама хоть немного партийного и профсоюзного непослушания. Возможно, жизнь повернулась бы ко мне лицом. А не жопой, которую я сейчас могу разглядеть во всех ее живописных подробностях. В санаторий меня привезла мама. «Избавилась» - подумала я. «Подлечу дочку» - наверное, подумала мама. Или «Избавлюсь от дочки». Бог знает, что на самом деле тогда подумала мама. Но вот в приемном покое уже оформлены документы, и старшая толстая медсестра ведет нас по гравийным дорожкам к корпусу, в котором на два с половиной месяца будут заключены тридцать девочек старшего возраста. Санаторный корпус представляет собой замок. Там и в самом деле жила до революции какая-то графиня со своей семьей. А потом графиню то ли выгнали из страны, то ли расстреляли, - и теперь в этом замке живут несчастные дети в то время, когда государство поправляет их здоровье. Огромное здание из серого камня, с башенками и сводчатыми окнами в просторных комнатах, которые сейчас называются палатами. Втроем мы входим в большую центральную комнату, куда открывается несколько высоких дверей. Дальняя дверь – это моя палата, медсестра заводит нас в эту комнату и хлопает рукой по пустой тумбочке возле двери. «Это твое место» - говорит она, указывая рукой на низкую койку со спинками из прессованных опилок. В палате есть еще несколько девочек, и они без интереса смотрят на вновь прибывшую к ним сокамерницу. Затем следует сцена недолгого прощания, - и мама уходит. Ей нужно успеть на поезд, который увезет ее из Евпатории в Одессу. А я останусь одна. В компании таких же больных чужих девочек и жуткой Эвелины. Никогда женщина не может выглядеть так, как выглядит Эвелина. Никогда у женщины не может быть такого голоса, которым разговаривает Эвелина. Никогда женщина не может быть похожа на то чудовище. Даже мама, шпыняя меня лишним весом, показывала тихонько пальцем на подобных монстров, и говорила: «Это твое будущее». Конечно, мама имела ввиду только мое толстое, в складках, тело. Но так получилось, что мама напророчила. И жуткое будущее материализовалось в виде вынужденного общения с Эвелиной, которая выглядела так и разговаривала таким голосом, какого не может быть ни у какой нормальной, в моем понимании, женщины. Вот она стоит передо мной, двухметровое чудище, обойти которое кругом можно только с ночевкой. Короткая мужская стрижка, на подбородке пробивается клочковатая борода. Жирные червеобразные губы сейчас плотно сжаты, - она внимательно буравит меня гвоздиками-зрачками, - каким-то чудом они еще выглядывают из-за плотных, с жесткой желтоватой кожей, щек. Вообще, Эвелина – всего-навсего воспитатель старшей группы девочек. Вероятно, у нее есть какое-то педагогическое образование, но я думаю, что пользуется она им только на партсобраниях. Потому что нельзя не повиноваться Эвелине, когда она раскрывает свой жирный рот. Из него вылетают звуки подобные тем, что издает паровоз, машинист которого в отчаянье пытается согнать с рельс лежащую корову и понимает, что сделать ему это не удастся. Машинист уже мысленно видит крушение состава, языки пламени, обломки металлической обшивки вагонов, растерзанные и истекающие кровью тела. Примерно то же видит девочка старшего возраста, когда Эвелина выдает ей ценные указания, - в голове девочки перемешиваются ужас и картины с преобладающими в них обрывками человеческой плоти, кровавые лужи и разбросанные по полу глаза, что катятся из центра комнаты под кровать, оставляя за собой красный дымящийся след и сладковатый запах свежей человеческой крови. Эвелина имеет отчество - Дмитриевна. И еще у нее есть какая-то вполне человеческая фамилия. Только это напоминает мне о том, что Эвелина человеческой породы. Все остальное в ее облике и манере поведения наводит мысль о бешеном бегемоте, если такие существуют в природе. Если Эвелина молчит, и в ее зрачках копошится остренькая червеобразная мысль, то спрятавшись за углом, можно вполне сносно ее рассмотреть ее огромную тушу. Туша запакована в подобие штанов от мужской рабочей робы. Они так плотно натянуты на брюхе, что, кажется, – вот-вот лопнут, и тогда живот Эвелины хлынет желтым жиром наружу, а за ним вывалятся дымящиеся кишки, в которых еще перевариваются проглоченные за завтраком девочки старшего возраста. Могучую грудь Эвелина, очевидно, отвоевала у былинного русского богатыря, земля ему будет пухом, и теперь носит, не снимая. Грудь упакована в тельняшку, наверное, снятую с убитого Эвелиной же матроса. Бедные дети не дождутся своего отца, их хрупкая белокурая мать будет долго гадать, в каких странах болтается их нерадивый папаша, - потому что никогда не узнать ей страшной правды. Наверное, это даже к лучшему. На два метра в радиусе источает Эвелина злобу, не пытаясь ее хоть как-то скрыть. Потому что все в этом санатории боятся Эвелины. А те немногочисленные сотрудники, что не испытывают страха, - похожи на нее и лицом, и телом, и голосом. Я думаю, что, наверное, это такая порода монстров, выведенная специально в этой части курортного Крыма для укрощения девочек старшего возраста. Я ощущаю дрожь, что будет сопровождать меня все два с половиной месяца «лечения», два с половиной месяца заточения в этом страшной резервации, где собраны больные и обессиленные дети со всего Союза. И два с половиной месяца Эвелина будет жрать днем и ночью нашу кровь. У нее есть муж. Старый коренастый мужик с громким скрипучим голосом. Лысой макушкой он достигает до солнечного сплетения могучей супруги. Наверное, когда идет дождь, он прячется под складками жира на ее животе, а в грозу укладывает себе на голову ее ведрообразные груди. Получается нечто вроде крыши, и жирное мясо Эвелины приглушает снаружи раскаты грома. По обширной территории санатория он передвигается, опираясь на суковатую палку. Я думаю, что палку он изготовил на заказ и может быть, залил в нее свинец. Когда он бьет этой палкой маленьких детей из вверенного ему отряда, они кричат и визжат, сгибаясь от боли. А потом долго еще не сходят с их тел страшные черные синяки. Эвелина тоже бьет своих девочек старшего возраста. Но она не пользуется ни палкой, ни поленом, ни даже табуреткой. Она просто хватает девочку могучей ручищей и с размаху вколачивает девочку в стену. В основном, нас бьют тогда, когда мы не хотим есть. Есть мы не можем потому, что совсем недавно нас вынули из больничных коек и притащили в этот проклятый Крым. Кто-то приехал с одним легким, кто-то вообще с половиной легкого, - потому что во время операции все остальное вырезали, отрезали, отчекрыжили и выбросили. Оно не годилось. Где-то был гнойный абсцесс, у кого-то какое-то ранение, кто-то так и родился инвалидом. Санаторий наш легочной, а не психический, и здесь отличные условия для оздоровления дыхательной системы, - Крым, морской воздух, сосны и всякое такое. А вот души наши щадить совсем необязательно, потому что у нас нет психопатологии. Она не вписана в наши карточки. Автоматом это означает, что все мы вполне способны выдержать и Эвелину, и ее ужасного мужа. Мы ослаблены, и больше всего нам хочется жареного мяса, апельсинов и ранних осенних яблок. Между тем, на завтрак нам выдают серую с синим отливом перловку, которой можно заряжать дробовик, твердый зеленый соленый помидор, которым при желании можно выбить противнику глаз и жесткую мочалку, обмотанную вокруг сизого мосла. Это здесь называется мясом. Иногда жуя это мясо, я думаю о том, что совсем недавно оно бегало между столиками в унылой санаторской столовой, пропитанной невысказанными словами, сдерживаемым рыданием и тоской по теплому дому. А потом старый лысый муж Эвелины взмахнул своей суковатой палкой – и мясо упало, перестало смеяться и хулиганить. Муж Эвелины очень не любит «хулиганства». С мертвого мяса снимают штанишки и полосатую маечку и бросают его в котел. Потом мы его едим, а окровавленные штанишки и маечку Эвелина с мужем продадут на местном рынке. Вот потому, что мы не едим перловку и мясо наших погибших товарищей по несчастью, Эвелина лупит об стенку девочек старшего возраста, а ее муж убивает палкой своих маленьких подопечных. В оздоровительную программу санатория включены прогулки к морю. Мартовская Евпатория холодна и неприветлива. Мы обматываемся теплыми шарфами, становимся парами, и Эвелина тащит нас к морю. Ветер пронизывает хрупкие тельца и злобно кусает за спину. Море черно. Берег покрыт мерзкими полусухими водорослями, их острый запах выедает ноздри. На берегу, если смотреть вниз с того камня, на который постоянно выводит нас Эвелина, лежит туша полуразложившегося дельфина. Наверное, его выбросило волной и на суше он умер. Может, он болел, думаю я, а может, он не хотел жить и покончил с собой. Сквозь полусгнившее мясо просвечивает костный остов. Широкие ребра замыкают пустую грудную клетку, - внутренности, должно быть, съели прожорливые морские птицы. Запах гниющего дельфина смешивается с йодистым запахом водорослей, проникает глубоко в больные легкие и вызывает тошноту. Но деваться некуда, и мы мужественно «лечимся», раз это предписано нам на эти долгие два с половиной месяца. Иногда в том расположении духа, которое, вероятно, сама Эвелина считает у себя хорошим, она выводит нас на прогулку в город. По дорожке из санатория, вдоль по трамвайной линии, мы попадаем на маленькую площадь, где трамвай делает круг. Что-то отвлекает Эвелину, и она на секунды теряет свою легендарную звериную бдительность. Мы забегаем в маленький гастроном и, о чудо! – там продают пирожные! Вскладчину, насобирав по карманам мелочи, мы покупаем корзиночки с белковым кремом, по двадцать две копейки за штуку. Выходим, дружно жуя, - как давно это было, когда любимая мама приносила домой коробку пирожных, и можно было есть, обмазавшись хоть с ног до головы белым кремом, и запивать всласть горячим чаем. Есть – и никого не бояться! Но Эвелина замечает это нарушение режима и приказывает немедленно выбросить пирожные в урну. А мы стоим, склонившись над урной, и никакая сила не может заставить нас выбросить лакомство. Мы давимся и плачем. И едим пирожные. Которых не увидим еще два месяца. Как и не услышим родных. И не обнимем маму, потому что вместо мамы у нас сейчас – сука Эвелина. Мне попадает по рукам первой, потому что я стою с краю. Недоеденная корзиночка из песочного теста летит в урну, а я получаю еще и пощечину, а потом она хватает меня за шкирку и прикладывает к бетонной опоре линии электропередачи. Она запоминает мое лицо и почему-то решает, что зачинщицей этого уголовного преступления была именно я. Я понимаю, что дальше мне придется совсем худо. А Эвелина выбивает пирожные из остальных детских рук, зычно командует стать строем и ведет нас обратно в тюрьму. Но обед. Который даже видеть никто из нас не может и не хочет. Я молча смотрю в тарелку, на холодную перловку капают горячие слезы и я думаю, что теперь она будет не такой твердой. Надо мной стоит Эвелина. Вся столовая замерла, словно умерла, и любое движение сбоку от себя я вижу словно в замедленной съемке. Я не выйду отсюда никогда – пока не съем эту проклятую перловку. Даже если мне придется сидеть до обеда следующего дня. Но тогда мне принесут еще одну порцию, и Эвелина впихнет ее мне в глотку, и я подавлюсь. Она сживает мне плечо и трясет за шиворот. - Я не могу есть перловку, - тихо говорю я в тарелку, не поднимая глаз. Эвелина молчит и это еще хуже, чем слышать звук ее паровозного голоса, потому что она начинает нависать надо мной, как большая черная гора, и сбежать из ее тени – некогда, некуда и невозможно. Скосив взгляд, я вижу, как санаторное начальство в лице необъятного молодого начмеда гордо шествует к раздаточной. Если стоять лицом к окошку, из которого вылетают наполненные нашим проклятьем тарелки, то слева будет белая дверь, за которой находится «пробовательная». Хлопотливая повариха сейчас припрет туда огромные тарелки с рассыпчатой гречневой кашей, жареными курами и салатом из свежей капусты и огурцов. Начмед начнет «снимать пробу». Ему по должности положено это делать, чтобы уберечь все маленькое больное население детского санатория от приступов холеры, дизентерии, вирусного энтерита и болезни Боткина. Начмед мужественно принимает ежедневный удар по собственному здоровью в виде снятия пробы еды. Он жрет заправленную сливочным маслом гречку – чтобы поставить плюсик напротив перловки. Плюсик свидетельствует тот проверенный факт, что перловка съедобна и безопасна для нас. Он жадно впивается крепкими зубами в зажаренные куриные ноги – чтобы поставить плюсик в меню напротив того блюда из останков наших несчастных собратьев, которым давимся мы под грозные окрики Эвелины. Он старательно попадает вилкой между лоснящимися, свисающими как у раскормленного бульдога, щеками, в отверстие маленького слащавого ротика, от поцелуя которого мне захотелось бы вырвать. Это значит, что он поставит плюсик в знак того, что мерзкие зеленые помидоры полностью соответствуют требованиям к диете легочных ослабленных больных. Я замечаю полупоклон, которым два центнера начмедовского веса приветствуют Эвелину, кокетливый (кто бы мог подумать!) взгляд ее свинячьих глазок, и понимаю, - они одной крови. И совершенно бессмысленно будет искать у него помощи, хотя он и врач. Эвелина отходит от меня, медленно, с видом удовлетворенной гестаповки проносит свою тушу возле ряда столов, за которыми «питается» наш отряд, и приземляется за последним столом. Там уже сидит ее старикашка, только что он припер стандартный фанерный ящик. В таких ящиках родители присылают нам посылки. Гнусная семейка суетливо потрошит содержимое, а мы с тоской гадаем, чью еду они на пару сожрут в этом раз. Правилами санатория нам позволено получать в посылках сухое печенье и леденцы. Родители легкомысленно относятся в этому правилу. В эпоху дефицита они стараются раздобыть за бешеные деньги палку сухой колбасы и прислать ее своему детенышу. Родители догадываются о том, как именно могут кормить больных детей в санатории. Вот и пытаются как-то удовлетворить потребность ослабленного организма своего чада в белках, жирах и углеводах. Но когда мы смотрим, что происходит за последним столиком, наша детская вера в людей превращается в неистовую ненависть. Жирными, дрожащими от перевозбуждения руками две жирные суки, Эвелина и ее супруг, ажиотажно роются в ящике. Вот сухая колбаса, вафли, сгущенное молоко, голландский или российский сыр (других в то время просто не существовало), шоколад, печенье, завернутые в бумагу домашние пирожки… Семейная пара накладывает себе полные тарелки этого добра и жрет, клацая квадратными челюстями, прямо у нас на глазах, то, что им не принадлежит. В конце нашего обеда Эвелина, облизываясь, подходит к хрупкой, почти бестелесной Марине со светлыми волосами до плеч и урча сообщает, что ей, Марине, родители прислали посылку, и за своими двумя шоколадными конфетами в день она теперь может обращаться к Эвелине. Марина подавленно молчит. А у меня во рту забетонировалась перловка, и я даже не могу сказать «сука». А именно этого сейчас мне больше всего и хочется. Я злобно втыкаю в кашу оловянную ложку. Ложка ломается пополам, и я понимаю, что мне пришел конец. Дорогой к корпусу Эвелина тащит меня за ухо. Я не сопротивляюсь, потому что мне кажется, будто я уже умерла. За широким столом в общей комнате сидят все девочки из моего отряда. После того, как закончится публичная порка антисоциалистической сволочи в лице меня, все будут дружно делать уроки, - в санатории есть школа с облегченным курсом обучения. А пока что я стою, склонив голову, и жирный черный бегемот трубно кричит в мой адрес все возможные оскорбления. Я порчу социалистическое имущество, я непослушна, груба, я – грязное пятно на облике маленького санаторного общества. Эвелина неистово вопит и периодически рыгает, - видно, в желудке переворачиваются пласты колбасы и домашних пирожков, - для лучшего переваривания. Стою я в самой дальней от нее точке – по диагонали длинного стола. Позади меня спасительная, как мне кажется, дверь в мою палату. Если Эвелина вскочит на стол и побежит ко мне, и если стол не развалится, то эта дверь будет единственным путем к отступлению. И судя по тому, как темнеет у меня в глазах, как поднимается тяжелая тошнота к горлу, как замирает в бессильной ярости сердце, - этот путь мне понадобится. «Гадина! – беснуется Эвелина, - Гадина!!!» Все люди в этой комнате давно уже превратились в камни, а ураган по имени Эвелина меняет цвет на ярко-красный, с черной окантовкой краев. Вот я вижу, как она поднимает руки и простирает их ко мне, судорожно сжимая пальцы в намерении ухватить меня за шею. Звук ее голоса, да и вообще все окружающие меня до этого звуки смолкли, будто выключенные кнопкой телевизора. Эвелина приближается, и я не понимаю, как это происходит, - то ли она идет по столу, то ли ее несет течением воздуха, но эта неотвратимость, с которой ее лицо становится все больше и больше, ввергает меня в полнейшее отчаяние. Я никогда не увижу больше своих родителей. Я не увижу того мальчика из десятого класса, в которого влюблена уже четыре года. Прощай, любимая морская свинка. Всему конец. И выхода нет. И тут происходит то, чего я боялась больше всего. Рядом со мной на столе стоит большая белая металлическая кружка с водой. В ней моют кисточки наши любительницы рисования. Я смотрю на нее, как на последний предмет, который суждено мне увидеть в моей короткой жизни. И в следующий момент кружка летит точно в голову Эвелины. Глухой удар в средину неандертальского лба, разлитая в воздухе вода, капли, медленно летящие вниз, поворачиваются вокруг своей оси и не спешат падать. Затем те же капли летят уже вверх, я закрываю глаза и медленно погружаюсь в трясину глухой черной горячей тошноты. Или было все не так. Рядом с Эвелиной на столе стоит большая белая металлическая кружка с водой. В ней моют кисточки наши любительницы рисования. Я смотрю на нее, как на последний предмет, который суждено мне увидеть в моей короткой жизни. И в следующий момент кружка летит точно мне в голову. Глухой удар в средину лба, разлитая в воздухе вода, капли, медленно летящие вниз, поворачиваются вокруг своей оси и не спешат падать. Затем те же капли летят уже вверх, я закрываю глаза и медленно погружаюсь в трясину глухой черной горячей тошноты. Черная тьма начинает медленно рассасываться вместе с приходом звуков. Звуки врываются в голову, и я словно вижу подброшенный вверх ворох живых воробьев. Они звенят, шуршат, а потом разлетаются в разные стороны, и мир снова начинает звучать обычно и обыденно. Рядом со мной сидит медсестра, а я лежу на своей койке у двери. Медсестра вынимает иглу из вены на моей руке, замечает, что я вернулась и кричит кому-то, чтобы принесли горячий чай. Только сладкий! – добавляет она, наклоняясь и пристально вглядываясь мне в глаза. - Ну вот. Все хорошо, нельзя же так себя доводить. Она сидит со мной еще какое-то время. А потом уходит. И меня начинает бить озноб. Мелкий в верхней части тела, но такой крупный в ногах, что ноги сами сгибаются в коленях, и я подпрыгиваю, лежа в постели. Ко мне подходят девчонки. Я не хочу спрашивать их о том, что случилось. Мне неприятно об этом ни говорить, ни думать. Но они рассказывают, что я пролежала пару часов вот так, словно во сне, и в это время смена Эвелины закончилась, и я могу не бояться ее аж до следующего утра. С напоминанием об Эвелине я вдруг чувствую, что в животе у меня целая тарелка проклятой перловки. Вскакиваю, хоть у меня и кружится голова, и бегу в туалет. Девочки дают мне пройти, - они думают, что я хочу писать. Но я помню, что в животе у меня сидит Эвелина, вместе с ее проклятой кашей, с ее проклятым помидором, мужем, копченой колбасой, оловянной ложкой и начмедом. Я склоняюсь над отверстием туалета и засовываю в рот два пальца. Живот сводит судорогой, и я понимаю, что извлечь Эвелину непросто, это больно и мучительно. Но я не могу терпеть ее внутри себя. Подхожу к умывальнику и пью теплую воду. Пью столько, что живот становится как барабан и болит. Делаю несколько глубоких вдохов, Эвелина со своей кашей перемешиваются внутри, подступают к горлу – и наконец, рывками, болезненными толчками выплескиваются наружу, в черное отверстие вонючего унитаза. Я приучилась за два месяца к трем вещам. Молча есть перловку. Трястись в постели перед сменой Эвелины. Доставать из себя перловку и Эвелину всякий раз, когда они насильственно проникали в мой живот. Рассказать родителям о том, что происходило с нами, в частности, со мной, в том проклятом санатории, возможности ни у кого из нас не было. Письма, выпускаемые наружу, вскрывались и внимательно перечитывались. Если письмо содержало жалобы – то просто не доходило до адресата. То же самое происходило и с письмами родителей к нам. Мы получали безалаберно заклеенные канцелярским клеем конверты. А в текстах были тщательно замазанные черной тушью строки. Единственное письмо, уже ближе к окончанию срока нашего за(зло?)ключения было тайком вброшено в почтовый ящик на прогулке одной из моих сокамерниц. После того и нагрянула комиссия, и приехали родители. И закончилась для нас та дикая смена в концлагере, направленная на укрепления здоровья детей членов профсоюзного комитета. |
Оригинал текста - http://teplovoz.com/creo/14861.html |